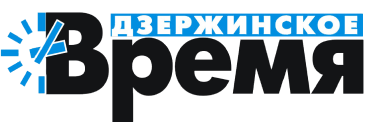Под корень вырубили в прошлом веке могучее древо священнических родов, переплетающихся меж собой ветвями. И когда в восьмидесятых, девяностых годах пришла пора вновь открыться храмам – казалось, неоткуда взяться тем, кто возьмет в руки Чашу Господню. Из тех мужиков, что приходили к вере, далеко не все дерзали взяться за пастырский гуж, немногие считали себя дюжими. Ведь кроме Чаши, приходилось брать в руки топор и лопату, бухгалтерские документы и прочие подробности управления строительством – редкий храм не требовал восстановления. Да и вопрос прокорма семьи в таких условиях стоял очень остро. Однако находились те, кто шел в священники.
 Маму
отца Алексия Шлячкова, Ольгу Михайловну,
я помню с тех пор, как у нас в Дзержинске
открылся церковный вагончик – она была
просвирницей, то есть пекла просфоры.
Это такие, если вдруг вы не знаете,
маленькие кругленькие хлебцы, необходимые
для совершения бескровной Жертвы на
литургии. Такую работу кому попало не
доверяют, просвирницей может быть только
благочестивая женщина, лучше если это
будет монахиня.
Маму
отца Алексия Шлячкова, Ольгу Михайловну,
я помню с тех пор, как у нас в Дзержинске
открылся церковный вагончик – она была
просвирницей, то есть пекла просфоры.
Это такие, если вдруг вы не знаете,
маленькие кругленькие хлебцы, необходимые
для совершения бескровной Жертвы на
литургии. Такую работу кому попало не
доверяют, просвирницей может быть только
благочестивая женщина, лучше если это
будет монахиня.
Обликом Ольга Михайловна действительно похожа на насельницу монастыря – светлое, будто прозрачное, лицо, голубые ясные глаза, скорбно поджатые губы. Но она не монахиня, а совсем наоборот – мать пятерых детей.
Хотя к тому моменту, когда я увидела ее в церкви в таком вот, как будто иноческом, обличье, детей у нее уже было четверо. Младший сын Миша страшно, нелепо, обидно погиб в 13 лет. Помните гору в Горбатове, как от пристани наверх подниматься? Вот на этой горе и отказали у мальчишки тормоза велосипеда. А гора-то почти вертикальная. Не смог остановиться, а тут дерево как раз на пути…
Алексею тогда было 15. Он закончил первый курс музыкального училища по классу баяна. Через силу, через «не хочу». Мама настояла – он поступил. А тянуло-то его больше к машинам, к технике.
Какая-то сугубая религиозность, кстати, до Мишиной смерти над семьей не довлела. «Когда мы были совсем маленькие, – вспоминает батюшка, – мама возила нас на службу в Нижний, в Печерскую церковь. Мы еще ступеньки считали на тамошней лестнице». А потом, с годами, мирская жизнь потихоньку вытеснила церковную. До трагедии. Потеряв ребенка, Ольга Михайловна стала усердно посещать храм.
Алексей перебрался из Дзержинска в Горбатов. Когда брат погиб, как раз летняя сессия была. Вот и представьте – дома г о ре, а ты изволь, сдавай ненавистное сольфеджио. Плюнул парень на экзамены, забрал документы из училища и приехал к матери. А с нового учебного года поступил в горбатовское ПТУ, на механизатора широкого профиля.
Материнскую религиозность дети в то время не особенно разделяли – ходит она в церковь, ну и пусть ходит. Так Ольга Михайловна стала по утрам сына поднимать: «Леш, вставай. Леш, проводи меня на службу. Леш, пойдем со мной». Он поотбрыкивается, поотнекивается, с боку на бок повертится, потом встанет: «Ну пойдем, пойдем! Что с тобой поделаешь?».
В церкви бабушки: «Сыночек, иди к нам в хор!». А потом и батюшка: «Давай-ка, парень, в алтарь, мне помощник нужен!». Одному служить действительно трудно. И тут уж у Алексея новая причина появилась в церковь ходить. «Вроде и проспал бы, – вспоминает он сейчас, – а подумаешь – как он там один? И как будто уже выбора нет, надо идти»… (полный текст статьи читайте в газете “Дзержинское время” за 6 марта 2008 года)
Евгения ПАВЛЫЧЕВА