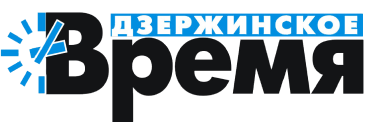Мне 71 год. Я – ребенок опаленных войной родителей. Каждый год приезжаю на малую родину в Ряжск Рязанской области навестить могилы родителей. Несколько лет назад перед входом на кладбище появился мемориал в честь блокадников Ленинграда с обелиском и памятной доской, ухоженный, с тротуарной плиткой, аккуратно высаженными цветами. Меня это немного удивило. Где Ряжск и где Ленинград? Я не думаю, что в городе было много жителей из блокадного Ленинграда. Из своей довольно активной школьной жизни я не помню, чтобы об этом где-то упоминали. Но с тех пор, навещая родные могилы, я сначала посещаю этот мемориал.
Мне 71 год. Я – ребенок опаленных войной родителей. Каждый год приезжаю на малую родину в Ряжск Рязанской области навестить могилы родителей. Несколько лет назад перед входом на кладбище появился мемориал в честь блокадников Ленинграда с обелиском и памятной доской, ухоженный, с тротуарной плиткой, аккуратно высаженными цветами. Меня это немного удивило. Где Ряжск и где Ленинград? Я не думаю, что в городе было много жителей из блокадного Ленинграда. Из своей довольно активной школьной жизни я не помню, чтобы об этом где-то упоминали. Но с тех пор, навещая родные могилы, я сначала посещаю этот мемориал.

Стала ленинградкой
Моя мама Коблева Марфа Михайловна (в девичестве Микерова, в военные годы Чернявская) – блокадница. Она после эвакуации из Ленинграда прожила в Ряжске более 30 лет, а после смерти папы переехала ко мне в Дзержинск, где прожила 20 лет – вплоть до смерти (ушла в 88 лет). По ее желанию похоронила я ее в Ряжске рядом с папой. Так она вновь (во второй раз) вернулась в Ряжск.
Из ее скупых рассказов о жизни я знаю, что ее девочкой 14 лет со справкой, добытой всеми правдами и неправдами через родственника в сельсовете села Салтыки, отец привез на подводе на станцию Ряжск-1, посадил в поезд до Москвы, отправляя в Ленинград к дяде, который служил там военврачом. Ей предстояла пересадка в Москве. Образование – 2 класса, никогда, кроме конных повозок, не видела ни поезда, ни трамвая, ни автобуса. Да еще боялась, как бы ее не вернули назад в колхоз. Это был 1927 год. Чего она натерпелась в пути, трудно описать, но тем не менее она оказалась в Ленинграде с листком в руках, где был написан и адрес, и номер трамвая, на котором можно от вокзала доехать до нужной улицы.
Со временем она устроилась на работу прачкой в воинскую часть, где служил дядя, позже училась на рабфаке, а потом вышла замуж за военного. Жили хорошо. Ее приняли на фабрику «Граммофон» работницей оборонного цеха. Перед войной у них уже было два сына и небольшая комната в Гатчине. В день, когда фашисты входили в город, муж успел по пути на передовую заскочить в проходную фабрики и сообщить маме, чтобы она брала детей и бежала в сторону Ленинграда. Это была их последняя встреча.
Война
Оборудование фабрики вывезли в Ленинград, где быстро было организовано производство мин. Сотрудников, добиравшихся в основном пешим ходом, с детьми на руках и, естественно, без каких-либо вещей, заселили в школу на Лиговском проспекте. Там в классах были сделаны двухэтажные нары и поставлены печки-буржуйки. Работали под бомбежками, спасаясь от бомб в дверных проемах. Ночами дежурили на крыше, тушили зажигательные бомбы. Есть нечего, топить нечем, обменять на еду нечего.
Однажды за единственное крепдешиновое платье, взятое с собой, удалось купить на рынке две котлетки. Голодные дети есть их не стали. Как оказалось впоследствии, они были из человечины. Однажды в очереди за хлебом у нее украли карточки, младший сынок вскоре после этого умер от голода. (Он похоронен вместе с другими умершими в одной из братских могил Волкова кладбища.) Окоченевшие трупы складывали штабелями в коридорах школы.
Ребенок, когда она, торопясь на работу, нечаянно запиналась о кого-то, спрашивал: «Мама, зачем ты его пинаешь, он же тебя не трогает?» Ночами пробирались на территорию Бадаевских продовольственных складов, разбомбленных фашистами еще в начале войны, рискуя подорваться на мине или попасть под обстрел. Набирали в платки мерзлую землю, оттаивали ее на буржуйке и пили эту воду из земли, пропитанной сгоревшим сахаром. Еще попадался горчичный порошок. Из него пекли лепешки. Но чтобы они были съедобными, горчицу нужно было долго вымачивать. Терпения часто не хватало, и ночью после «быстрых» горчичных лепешек многие умирали. И эти смерти казались обыденными. Даже горько шутили, когда кто-то начинал хрипеть. Говорили: «Ну, имярек поехал». Если у кого-то были кожаный ремень или перчатки – они были съедены. Ели столярный клей. Пытались есть даже резиновый, но он был несъедобен.

…Карточки украдены, а до следующих нужно протянуть еще неделю. Уйти от прилавка, где выдавали хлеб, было невозможно. Однажды, видя совсем бедственное положение мамы, заведующий ларьком подозвал ее и сказал: «Если отнесешь посылку по адресу и вернешься, то дам тебе хлеба». Мама согласилась. Каких усилий ей стоило добраться до указанной квартиры – это отдельный разговор. Но обещание мужчины дать хлеб и сознание того, что тебя ждет голодный ребенок, придавало сил. За дверью квартиры звучала музыка, на лестнице пахло борщом. Открыла приветливая, миловидная, хорошо одетая женщина. Мама отдала посылку, женщина поблагодарила, и мама поплелась назад. Как она потом догадалась, в посылке был хлеб. Ларек уже закрылся.
На следующий день она опять стояла у хлебного прилавка, дожидаясь, пока все отоварят карточки. Мужчина не обманул. Он дал ей буханку блокадного хлеба, на которой она с сыночком протянула до начала следующего месяца. Главное было – донести хлеб до дома, потому что, если съешь хоть крошку, то остановиться практически невозможно. А дома голодный ребенок. Этот хлеб тогда спас и ее, и сына. Весной всех оставшихся в живых стали расселять. Мама тоже получила ордер на комнату на Васильевском острове, но когда она увидела, что жилье без внешней стены, ей пришлось согласиться на эвакуацию. Она мечтала сохранить хоть одного оставшегося в живых ребенка.
На Большую землю
Весной 1942 года была проложена дорога жизни через Ладогу. 60 километров по льду шли пешком. Так было безопаснее из-за непрекращающихся бомбежек. Встречные машины, везшие продовольствие в осажденный голодный город, подвергались нещадным бомбежкам. Часть грузовиков проваливалась в полыньи под лед. Водители ехали с открытыми дверцами кабин, но не всегда успевали выпрыгнуть и тонули вместе с машинами.
Тех, кто не утонул, не погиб под бомбами и сумел дойти до другого берега, посадили в эшелон, покормили и отправили в глубь страны. Эвакуированным было удивительно, что люди за пределами Ленинграда выглядели нормальными, не такими страшными, как голодающие ленинградцы, а по улицам бегали кошки и собаки. На крупных железнодорожных станциях пассажиров кормили. На эвакуационном документе (четвертинка листа с фамилией) ставили печать с указанием: «обед» или «сухой паек». Ходячие (в вагоне таких осталось двое, в том числе мама, которой было 28 лет) ходили на поля, если таковые были вблизи, и из местами подтаявшей раскисшей весенней почвы выковыривали неубранные осенью промерзшие за зиму картошку или свеклу. Их делили на всех. Удивительно, что никто не заболел дизентерией.
Сынок в пути умер. Мама хотела довезти его до пункта назначения, чтобы похоронить, но в один из ее «походов» за едой из вагонов забирали трупы и его забрали вместе с другими. Где его похоронили, она так и не узнала.
Поезд, направлявшийся в Казань, в один из весенних дней остановился на железнодорожной станции Ряжск-1. Рассказав коменданту эшелона, что здесь ее родина и в деревне живет мать, мама попросила разрешения остаться здесь. Комендант выдал ей документы. Прощаясь с попутчиками, мама получила напутствие старика, за которым она ухаживала в пути. Он предсказал ей долгую жизнь. В такой прогноз тогда мало верилось. Но потом, в самом конце жизни, мама неоднократно вспоминала эти слова и гадала, выжил ли тот старик.
Дома, на родине
Через огромный обледенелый, скользкий железнодорожный мост, раскинутый от станции на другую сторону, откуда можно доехать до города гужевым или автомобильным транспортом, мама перебиралась несколько часов практически ползком, рискуя провалиться в расщелины в деревянных настилах моста или скатиться по ступенькам вниз – назад. В конце концов она оказалась на другой стороне от станции. Здесь она увидела подводы. Две тепло одетые дородные женщины сидели в санях, укрывшись тулупом от ветра, и ели вареную картошку и яйца, запивая молоком из бутылки. Одну из женщин мама узнала, это была жительница Салтыков, дом которой стоял на одной улице с родительским домом.
Когда женщины начали опасливо поглядывать на нее, страшно худую, с ввалившимися глазами и обтянутыми кожей скулами, в испачканном и местами порванном пальто, в ботинках, подметки которых подвязаны шнурками, чтоб не оторвались, она подошла поближе и спросила, не из Салтыков ли они? В ответ прозвучало: «А тебе какое дело?» Она попросила довезти ее до Салтыков, сказав, что она оплатит дорогу и что она дочка Михаила Филипповича, которого те должны были знать. Они ей в ответ: «Дочка у него в Ленинграде. А ты кто такая?» Она ответила, что это она и есть. Тогда обе запричитали, что же это она не подошла к ним, когда они ели? В это время подъехал мужчина на третьей подводе, которого мама тоже узнала. Он был старшим в этом обозе и оформлял документы о сданном хлебе для фронта. Мужчина распорядился одну из подвод отправить сразу в Салтыки, усадив в нее маму и укутав тулупом.
В село въехали по темноте. Вскоре остановились, и женщина скомандовала: «Вылезай, приехали». Мама не узнала родительский дом. Раньше перед ним были огромные вешки, в кронах которых вили гнезда ежегодно прилетавшие грачи. Причем птицы узнавали хозяев и поднимали страшный крик, если на усадьбу заходила скотина или чужой человек, или в сад забирались дети за яблоками. Здесь было голо, и мама попросила довезти ее к матери. Женщина ответила, что до матери далеко и чтобы она вылезала здесь. Моя бабушка к тому времени уже умерла от пневмонии, а вешки спилили на дрова, потому что в округе нет лесов, а обычных высушенных коровьих лепешек для отопления домов в эту очень холодную зиму оказалось недостаточно.
Смотрели, как на экспонат
Постучав в дверь, мама услышала незнакомый женский голос. Она попросила пустить ее переночевать. Голос ответил, что они сами эвакуированные из Москвы, их четверо, и у них нет места, и посоветовал дойти до сельсовета, мол, там помогут. Тут мама догадалась, что в родительском доме могла поселиться семья младшей сестры, жившей в Москве, а голос принадлежит ее свекрови. Силы оставляли ее, и мама сказала: «Ну тогда передайте Нюре, что приходила сестра». Снова хлопнула дверь и послышался истошный крик: «Марфуня, ты откуда? Где Юра, Толик?» Открылась дверь, и дальше она многого не помнит. И как перепугала всех криком от увиденной в окно собаки, и как ее накормили практически до заворота кишок, и как она сильно опухла и не могла ходить, и как ее долго выхаживали, и как из близлежащих сел и деревень приходили смотреть «ленинградскую смерть» как в зоопарк, и как она долго не наедалась, сидя за общим столом.
Люди здесь не видели войны и даже не слышали бомбежек. А у каждой на фронте муж, сыновья и братья. Им было интересно. Из уст в уста передавали «страшилку» о том, как телефонистки с усилительной станции услышали с другой стороны провода в городе Скопин резкую немецкую речь. Это был разведотряд фашистов, не доехавший 30 км до Ряжска. И хотя всем было голодно, люди, приходя, приносили с собой кто картошки, кто яичек, кто молока, зная, что эвакуированным еду взять негде, а на деньги от мужей с фронта мало чего можно было купить. Муж мамы погиб в 1942 году.

В Ленинград мама не вернулась, там уже не было ни дома, ни мужа, ни детей. Были очень тяжелые воспоминания о времени блокады, которыми она не делилась практически до конца своей жизни. Но с возрастом эмоции понемногу становятся менее яркими, сердце потихоньку оттаивает. Когда я настояла, чтобы она послала документы в Ленинград для получения знака «Житель блокадного Ленинграда», позволявшего в то время немного облегчить жизнь за счет помощи власти по организации продовольственного пайка, она в очень сильном волнении кое-что рассказала.
Сейчас я, сопоставив рассказ моей мамы с организованным мемориалом в честь блокадников Ленинграда, понимаю, что здесь захоронены умершие пассажиры из того эшелона, в котором ехала моя мама. Это кладбище самое близкое к железнодорожной станции и находится прямо у дороги в город. Видимо, местные краеведы раскопали в архивах этот факт и к юбилею снятия блокады или к юбилею Победы организовали мемориал. Моя мама упокоена здесь значительно позднее ее попутчиков, но сейчас они вместе в одной Рязанской земле. А в Ленинграде живет ее внучка. Она замужем за военным и у них три сына. И даже младший из них – первоклассник – сейчас старше своих дедов, умерших в блокаду.
Наволокина Раиса Александровна,
кандидат химических наук, доцент,
ныне пенсионер