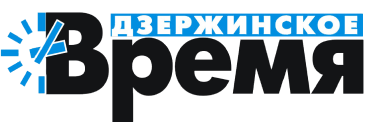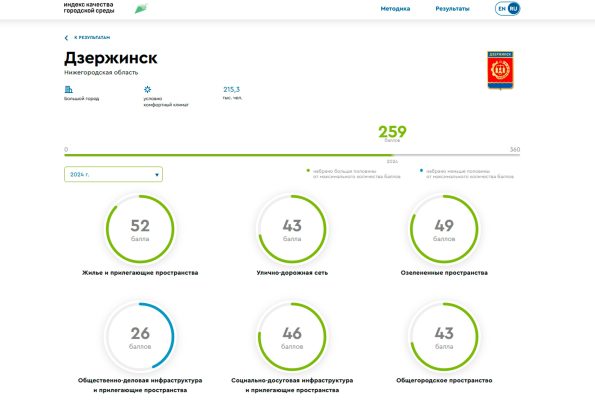Прошлогоднее, можно сказать, случайное путешествие
в пушкинское Болдино закончилось тем, чем, наверное, и должно было закончиться
– желанием получше узнать свой край, где история не поскупилась на события,
«наследила» как следует. А то получается, мы вдоль и поперек изъездили
заморские Египты и Турции, можем даже кое-что припомнить из их далекого прошлого,
а все, что у нас под боком, порой и в глаза не видели. Ей-Богу обидно. Именно
эта обида на самих себя и позвала нас снова в путь.
Еще в прошлом году, сразу после Болдина, мы с Сергеем Васильевичем, нашим
редакционным фотографом, решили для себя: едва опять нагрянет осень, снова
тронемся в Нижегородскую провинцию. И как только «пробило» 1 сентября, Василич
(так мы по-дружески называем нашего фотолетописца) сразу поставил вопрос
ребром: куда и когда едем? Первое, что пришло на ум – Городец. В конце концов,
он считается самым древним в наших краях
поселением – как-никак детище второй половины 12 века, Нижний Новгород и то моложе. К тому же ходят слухи, что наш Городец в 2015
году собираются официально включить в «Золотое кольцо России». Ну чем не повод
поближе познакомиться с соседом, пока он не стал важной персоной и не утратил
своей провинциальной искренности?!
Поездку запланировали на 5 сентября – днем позже
Городец справлял свое 860-летие. Однако от идеи попасть на этот праздник жизни
отказались сразу – хотелось увидеть старожила не причесанным и разряженным,
многолюдным и шумным, а таким, какой он есть, в «домашней», обыденной
обстановке.
Утро перед отъездом выдалось волнительным –
детство давно закончилось, а дрожь в коленках и ожидание чуда, всякий раз накрывающие
перед любым путешествием, даже очень маленьким, так и остались. К тому же эти
детские, и без того острые ощущения возводила в квадрат моя осведомленность о
Городце – накануне я по самую макушку «загрузилась» информацией об истории
этого древнейшего города, перелопатив в Интернете не одну дюжину научных и не
очень статей. Перелопатила и ахнула – Городец оказался тем крепким орешком,
который не удается разгрызть ни историкам, ни археологам, ни филологам. Вокруг
его ранней истории крутится столько версий, что и не знаешь, к какому берегу
пристать. Она буквально соткана из догадок и предположений, а иногда и просто сомнительных
умозаключений историков и легенд местных жителей. Чего не коснись – все
загадка. В каком году родился Городец? Кто его «отец»-основатель? Как нарекли
«младенца» при рождении? И что значит слово «городец»? На эти и многие другие
вопросы все еще нет однозначного ответа. Ну как, скажите, не разволноваться перед встречей с такой
загадочной «персоной»?!
И пока мы с Василичем «едем» эту сотню километров,
разделяющую наш моложавый Дзержинск и убеленный сединами Городец, я должна,
нет, просто обязана поделиться с читателями всеми эти историческими сомнениями.
Без этого город не прочувствуешь.
Прошлогоднее, можно сказать, случайное путешествие
в пушкинское Болдино закончилось тем, чем, наверное, и должно было закончиться
– желанием получше узнать свой край, где история не поскупилась на события,
«наследила» как следует. А то получается, мы вдоль и поперек изъездили
заморские Египты и Турции, можем даже кое-что припомнить из их далекого прошлого,
а все, что у нас под боком, порой и в глаза не видели. Ей-Богу обидно. Именно
эта обида на самих себя и позвала нас снова в путь.
Еще в прошлом году, сразу после Болдина, мы с Сергеем Васильевичем, нашим
редакционным фотографом, решили для себя: едва опять нагрянет осень, снова
тронемся в Нижегородскую провинцию. И как только «пробило» 1 сентября, Василич
(так мы по-дружески называем нашего фотолетописца) сразу поставил вопрос
ребром: куда и когда едем? Первое, что пришло на ум – Городец. В конце концов,
он считается самым древним в наших краях
поселением – как-никак детище второй половины 12 века, Нижний Новгород и то моложе. К тому же ходят слухи, что наш Городец в 2015
году собираются официально включить в «Золотое кольцо России». Ну чем не повод
поближе познакомиться с соседом, пока он не стал важной персоной и не утратил
своей провинциальной искренности?!
Поездку запланировали на 5 сентября – днем позже
Городец справлял свое 860-летие. Однако от идеи попасть на этот праздник жизни
отказались сразу – хотелось увидеть старожила не причесанным и разряженным,
многолюдным и шумным, а таким, какой он есть, в «домашней», обыденной
обстановке.
Утро перед отъездом выдалось волнительным –
детство давно закончилось, а дрожь в коленках и ожидание чуда, всякий раз накрывающие
перед любым путешествием, даже очень маленьким, так и остались. К тому же эти
детские, и без того острые ощущения возводила в квадрат моя осведомленность о
Городце – накануне я по самую макушку «загрузилась» информацией об истории
этого древнейшего города, перелопатив в Интернете не одну дюжину научных и не
очень статей. Перелопатила и ахнула – Городец оказался тем крепким орешком,
который не удается разгрызть ни историкам, ни археологам, ни филологам. Вокруг
его ранней истории крутится столько версий, что и не знаешь, к какому берегу
пристать. Она буквально соткана из догадок и предположений, а иногда и просто сомнительных
умозаключений историков и легенд местных жителей. Чего не коснись – все
загадка. В каком году родился Городец? Кто его «отец»-основатель? Как нарекли
«младенца» при рождении? И что значит слово «городец»? На эти и многие другие
вопросы все еще нет однозначного ответа. Ну как, скажите, не разволноваться перед встречей с такой
загадочной «персоной»?!
И пока мы с Василичем «едем» эту сотню километров,
разделяющую наш моложавый Дзержинск и убеленный сединами Городец, я должна,
нет, просто обязана поделиться с читателями всеми эти историческими сомнениями.
Без этого город не прочувствуешь.  Город без имени и истории
Сразу оговорюсь, в самом Городце о
неоднозначностях в его длинной истории заговаривают неохотно. Местные музейные
работники в большинстве своем преданы официальной версии и охраняют ее как
зеницу ока. А она такова. В 1152 году заложить город-крепость на левом берегу
Волги, как правило пологом, и только в одном месте холмистом, повелел Юрий
Долгорукий. Это укрепление должно было защитить Ростово-Суздальское княжество
от посягательств наших восточных и совсем не миролюбивых соседей – волжских булгар. В различных, принятых за официальную точку
отсчета, исторических справках это древнее поселение называют и Малым Китежем,
и Городцом-на-Волге, и Городцом Радиловым.
Но чем глубже погружаешься в «городецкую» тему,
тем отчетливее понимаешь, что многое тут притянуто за уши. По крайней мере, мне
сомнения известного в наших краях архивиста, руководителя областного комитета
по делам архивов и кандидата филологических наук Бориса Моисеевича Пудалова показались оправданными, а его выкладки – убедительными. Именно он
назвал Городец городом без имени и истории – разумеется, научно обоснованной.
Как и многие другие историки-краеведы, Пудалов к официальной дате основания
Городца (1152 год) относится с
недоверием. И на то есть основания.
Поскольку ни один древний, дошедший до наших дней
источник не содержит прямых указаний на то, в каком году «начался»
город-крепость с видом на Волгу и какая историческая личность стояла у его
истоков, историки пытаются и то, и
другое вычислить. При этом опираются на Супрасльскую летопись – не очень
надежный, белорусский памятник, в котором Городец-на-Волге, к тому же, упоминается
вскользь, без всяких указаний на даты. Не буду вдаваться в подробности
историко-лингвистических изысканий разных краеведов, ограничусь лишь выводом,
который следует из вполне убедительных доводов Бориса Пудалова: некоторые
историки сильно погорячились, приписав Городцу 1152 год рождения. Попытка сравнения
разных летописных сводов и историческая «математика» в этот раз, похоже, потерпели фиаско. А раз не клеится с датами,
то и с именами получается чехарда. Если принять за истину 1152 год, то с ним «в
паре» идет Юрий Долгорукий. Но в так называемой «Типографской летописи»,
содержащей список построенных этим князем городов и храмов, о Городце ни слова,
ни полслова. Если же отнести закладку Городца к более позднему времени, например, к 1164 году, часто
всплывающему в разных исследованиях, то тогда на сцену выходит уже другой
исторический персонаж – Андрей Боголюбский, сын Юрия, к тому времени уже
почившего.
Эта версия, признаться, выглядит посимпатичнее
официальной. Именно Андрей Боголюбский в 1164 году отправился с мечом в
Волжскую Булгарию, и вот ему крепость на подступах к вражеской территории как
раз могла понадобиться. Во времена же его родителя, как утверждают
историки, ни булгары, ни русские не
проявляли интереса друг к другу. К тому же Юрий Долгорукий так сильно был занят
борьбой с князьями-соседями и не одно десятилетие отчаянно добивался киевского
престола, что его «долгим рукам» было не
до укрепления восточных границ Ростово-Суздальского княжества. Вот такие
несостыковки.
Город без имени и истории
Сразу оговорюсь, в самом Городце о
неоднозначностях в его длинной истории заговаривают неохотно. Местные музейные
работники в большинстве своем преданы официальной версии и охраняют ее как
зеницу ока. А она такова. В 1152 году заложить город-крепость на левом берегу
Волги, как правило пологом, и только в одном месте холмистом, повелел Юрий
Долгорукий. Это укрепление должно было защитить Ростово-Суздальское княжество
от посягательств наших восточных и совсем не миролюбивых соседей – волжских булгар. В различных, принятых за официальную точку
отсчета, исторических справках это древнее поселение называют и Малым Китежем,
и Городцом-на-Волге, и Городцом Радиловым.
Но чем глубже погружаешься в «городецкую» тему,
тем отчетливее понимаешь, что многое тут притянуто за уши. По крайней мере, мне
сомнения известного в наших краях архивиста, руководителя областного комитета
по делам архивов и кандидата филологических наук Бориса Моисеевича Пудалова показались оправданными, а его выкладки – убедительными. Именно он
назвал Городец городом без имени и истории – разумеется, научно обоснованной.
Как и многие другие историки-краеведы, Пудалов к официальной дате основания
Городца (1152 год) относится с
недоверием. И на то есть основания.
Поскольку ни один древний, дошедший до наших дней
источник не содержит прямых указаний на то, в каком году «начался»
город-крепость с видом на Волгу и какая историческая личность стояла у его
истоков, историки пытаются и то, и
другое вычислить. При этом опираются на Супрасльскую летопись – не очень
надежный, белорусский памятник, в котором Городец-на-Волге, к тому же, упоминается
вскользь, без всяких указаний на даты. Не буду вдаваться в подробности
историко-лингвистических изысканий разных краеведов, ограничусь лишь выводом,
который следует из вполне убедительных доводов Бориса Пудалова: некоторые
историки сильно погорячились, приписав Городцу 1152 год рождения. Попытка сравнения
разных летописных сводов и историческая «математика» в этот раз, похоже, потерпели фиаско. А раз не клеится с датами,
то и с именами получается чехарда. Если принять за истину 1152 год, то с ним «в
паре» идет Юрий Долгорукий. Но в так называемой «Типографской летописи»,
содержащей список построенных этим князем городов и храмов, о Городце ни слова,
ни полслова. Если же отнести закладку Городца к более позднему времени, например, к 1164 году, часто
всплывающему в разных исследованиях, то тогда на сцену выходит уже другой
исторический персонаж – Андрей Боголюбский, сын Юрия, к тому времени уже
почившего.
Эта версия, признаться, выглядит посимпатичнее
официальной. Именно Андрей Боголюбский в 1164 году отправился с мечом в
Волжскую Булгарию, и вот ему крепость на подступах к вражеской территории как
раз могла понадобиться. Во времена же его родителя, как утверждают
историки, ни булгары, ни русские не
проявляли интереса друг к другу. К тому же Юрий Долгорукий так сильно был занят
борьбой с князьями-соседями и не одно десятилетие отчаянно добивался киевского
престола, что его «долгим рукам» было не
до укрепления восточных границ Ростово-Суздальского княжества. Вот такие
несостыковки.
 Во всем «виновата» Москва
Тем не менее версия, возводящая основателя Москвы
в ранг и прородителя Городца, оказалась на удивление живучей. А непререкаемый
авторитет она, похоже, приобрела в советские времена. По мнению кандидата
исторических наук Т.В. Гусевой, которая с 1978 по 1993 год руководила
археологическими раскопками в Городце, во всем «виновато» 800-летие Москвы,
которое с помпой отмечалось в 1947 году. Идеологически это торжество, в котором
принимал участие сам Сталин, было так обставлено, что Юрий Долгорукий в одночасье
превратился в культовую, знаковую фигуру в отечественной истории. Не
удивительно, что в такой обстановке поспешили отпраздновать свои значительные
юбилеи и отрекомендовать себя как «дети» Юрия Долгорукого Городец и
Кострома.
С наименованием города – не менее запутанная
история. Как Малый Китеж он живет лишь в народных преданиях, упоминаний этого
топонима в письменных источниках, утверждает тот же Борис Пудалов, историки не
встречали. Что до значения слова «Городец», то лингвисты не видят в нем
оригинального имени – считают, что это общее название русских маленьких
городов. И здесь филологи и историки сталкиваются лбами – последние путем
археологических раскопок доказали, что крепость на берегу Волги изначально
строилась как крупное поселение с мощными укреплениями. Его детинец (иначе –
кремль) в 20 га фору даст московскому. Уже не раз упомянутый Пудалов предположил, что тайна этого
противоречия кроется в некой незавершенности, свойственной Городцу, – приобрести статус города и собственное имя
он мог только после освящения с совершением
молебна в городском соборе. Но о существовании такого храма в «раннем» Городце
нет летописных известий. Следы незавершенности обнаружены археологами и в
физическом облике города – в его
укреплениях. Так что Городец-на-Волге – это, скорее всего, недострой, каких,
наверное, на Руси было предостаточно. В разных летописных сводах упоминается до
десятка Городцов, и для различения их приходилось «привязывать» к географии.
На приставке «Радилов» останавливаться особо не
буду, дабы не утомить читателей. Скажу лишь, что это еще одна из загадок нашего
Городца. Как, впрочем, и «предыстория» истории этого города – была ли она до
1152 или 1164 года? Кому интересно – загляните в Интернет, где выложено
достаточно научных работ известных историков.
В сухом остатке
Резюме: достоверно о «младенчестве» Городца
известно только то, что своими корнями он уходит во вторую половину 12 века –
первое упоминание о нем можно найти в сообщениях Лаврентьевской летописи за
1171 год как о уже существующем городе. Да и археологические находки
подтверждают это на все сто процентов. С 13 века противоречия в истории
Городца, так и оставшегося без оригинального
имени, сходят на нет, а определенности явно прибавляется.
…Вот мы и добрались до Городца, отмахав сотню километров
и преодолев восемь с половиной веков. И
дальше наш рассказ пойдет о том, что мы
увидели своими глазами и услышали собственными ушами. Но об этом – уже в
следующей «серии» наших городецких заметок.
Продолжение следует.
Во всем «виновата» Москва
Тем не менее версия, возводящая основателя Москвы
в ранг и прородителя Городца, оказалась на удивление живучей. А непререкаемый
авторитет она, похоже, приобрела в советские времена. По мнению кандидата
исторических наук Т.В. Гусевой, которая с 1978 по 1993 год руководила
археологическими раскопками в Городце, во всем «виновато» 800-летие Москвы,
которое с помпой отмечалось в 1947 году. Идеологически это торжество, в котором
принимал участие сам Сталин, было так обставлено, что Юрий Долгорукий в одночасье
превратился в культовую, знаковую фигуру в отечественной истории. Не
удивительно, что в такой обстановке поспешили отпраздновать свои значительные
юбилеи и отрекомендовать себя как «дети» Юрия Долгорукого Городец и
Кострома.
С наименованием города – не менее запутанная
история. Как Малый Китеж он живет лишь в народных преданиях, упоминаний этого
топонима в письменных источниках, утверждает тот же Борис Пудалов, историки не
встречали. Что до значения слова «Городец», то лингвисты не видят в нем
оригинального имени – считают, что это общее название русских маленьких
городов. И здесь филологи и историки сталкиваются лбами – последние путем
археологических раскопок доказали, что крепость на берегу Волги изначально
строилась как крупное поселение с мощными укреплениями. Его детинец (иначе –
кремль) в 20 га фору даст московскому. Уже не раз упомянутый Пудалов предположил, что тайна этого
противоречия кроется в некой незавершенности, свойственной Городцу, – приобрести статус города и собственное имя
он мог только после освящения с совершением
молебна в городском соборе. Но о существовании такого храма в «раннем» Городце
нет летописных известий. Следы незавершенности обнаружены археологами и в
физическом облике города – в его
укреплениях. Так что Городец-на-Волге – это, скорее всего, недострой, каких,
наверное, на Руси было предостаточно. В разных летописных сводах упоминается до
десятка Городцов, и для различения их приходилось «привязывать» к географии.
На приставке «Радилов» останавливаться особо не
буду, дабы не утомить читателей. Скажу лишь, что это еще одна из загадок нашего
Городца. Как, впрочем, и «предыстория» истории этого города – была ли она до
1152 или 1164 года? Кому интересно – загляните в Интернет, где выложено
достаточно научных работ известных историков.
В сухом остатке
Резюме: достоверно о «младенчестве» Городца
известно только то, что своими корнями он уходит во вторую половину 12 века –
первое упоминание о нем можно найти в сообщениях Лаврентьевской летописи за
1171 год как о уже существующем городе. Да и археологические находки
подтверждают это на все сто процентов. С 13 века противоречия в истории
Городца, так и оставшегося без оригинального
имени, сходят на нет, а определенности явно прибавляется.
…Вот мы и добрались до Городца, отмахав сотню километров
и преодолев восемь с половиной веков. И
дальше наш рассказ пойдет о том, что мы
увидели своими глазами и услышали собственными ушами. Но об этом – уже в
следующей «серии» наших городецких заметок.
Продолжение следует.