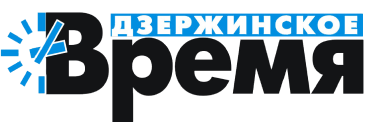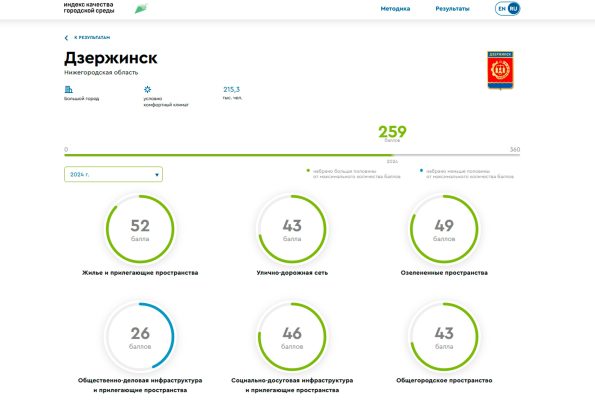Набережная в Городце – живой укор Дзержинску. Такая
же непомпезная, но очень ухоженная, поэтичная, как и сам город, она любого
дзержинца способна довести до слез. Смотришь на это пасторальное великолепие и,
всхливыпая душой, вопрошаешь: ну, почему, почему любой мало-мальский городок,
которому посчастливилось прилепиться к реке, старается воспользоваться этим
преимуществом и обустроить прибрежное пространство с любовью, и только
набережная в Дзержинске – срам да и только?! Обидно. И эта обида очень мешает
не завидовать городчанам. С этим чувством вообще трудно бороться в Городце – искушение
скромной красотой на каждом шагу.
Вот ты какой, град Лебединец!
Набережная в Городце – живой укор Дзержинску. Такая
же непомпезная, но очень ухоженная, поэтичная, как и сам город, она любого
дзержинца способна довести до слез. Смотришь на это пасторальное великолепие и,
всхливыпая душой, вопрошаешь: ну, почему, почему любой мало-мальский городок,
которому посчастливилось прилепиться к реке, старается воспользоваться этим
преимуществом и обустроить прибрежное пространство с любовью, и только
набережная в Дзержинске – срам да и только?! Обидно. И эта обида очень мешает
не завидовать городчанам. С этим чувством вообще трудно бороться в Городце – искушение
скромной красотой на каждом шагу.
Вот ты какой, град Лебединец! У подножья высокого городецкого берега – еще одна
местная «жемчужина», Город мастеров. Это своего рода музей-мастерская, где
городецкие искусники на глазах у честной публики творят шедевры и обучают
желающих премудростям своего ремесла.
Спуститься к этому «поселению», выросшему у Волги
почти три года назад, можно только по длинной-предлинной лестнице. Сосчитать,
сколько в ней ступенек, нам даже в голову не пришло – в начале спуска не
подозреваешь, какая зарядка тебя ждет впереди, а при подъеме только и думаешь о
том, чтобы коленки не сломались. Вопрос возник потом, в уютном редакционном
кресле: это сколько же мы отмахали, чтобы лицезреть еще одно городецкое чудо?!
Наш фотохудожник Василич не поленился – по фотографии приблизительно подсчитал,
что местная «стремянка» состоит как минимум из 175 ступенек. И этот «фитнес»
нам достался напоследок, когда за плечами была уже пятичасовая прогулка по
музейному Городцу! Да уж, воистину одержимым впечатлениями журналистам – семь
верст не крюк.
Но жертвы наши были не напрасны, да и забыли мы о
них тут же – перед нами стоял настоящий град Лебединец. По крайней мере, таким
я его себе в детстве представляла. Княжеский терем, купеческий дом,
крестьянская изба, часовенка, колодец, торговые ряды – без малого целая улица,
рубленная из дерева, лик которой позаимствован из глубины 16-19 веков. По
рассказам местных жителей, сосной для стройки с городчанами поделились пермяки,
дома рубили удмурты, до сих пор хранящие секреты «топорного» искусства. А местные
умельцы, которых собрали со всей округи числом пятнадцать, довершили дело –
нарядили эти крепкие, добротные постройки в знаменитую «глухую» резьбу. Сюжеты
брали с домов, которые по сей день живут и здравствуют в Городце. Все мастера
вместе взятые управились за год – не по-русски быстро, однако.
У подножья высокого городецкого берега – еще одна
местная «жемчужина», Город мастеров. Это своего рода музей-мастерская, где
городецкие искусники на глазах у честной публики творят шедевры и обучают
желающих премудростям своего ремесла.
Спуститься к этому «поселению», выросшему у Волги
почти три года назад, можно только по длинной-предлинной лестнице. Сосчитать,
сколько в ней ступенек, нам даже в голову не пришло – в начале спуска не
подозреваешь, какая зарядка тебя ждет впереди, а при подъеме только и думаешь о
том, чтобы коленки не сломались. Вопрос возник потом, в уютном редакционном
кресле: это сколько же мы отмахали, чтобы лицезреть еще одно городецкое чудо?!
Наш фотохудожник Василич не поленился – по фотографии приблизительно подсчитал,
что местная «стремянка» состоит как минимум из 175 ступенек. И этот «фитнес»
нам достался напоследок, когда за плечами была уже пятичасовая прогулка по
музейному Городцу! Да уж, воистину одержимым впечатлениями журналистам – семь
верст не крюк.
Но жертвы наши были не напрасны, да и забыли мы о
них тут же – перед нами стоял настоящий град Лебединец. По крайней мере, таким
я его себе в детстве представляла. Княжеский терем, купеческий дом,
крестьянская изба, часовенка, колодец, торговые ряды – без малого целая улица,
рубленная из дерева, лик которой позаимствован из глубины 16-19 веков. По
рассказам местных жителей, сосной для стройки с городчанами поделились пермяки,
дома рубили удмурты, до сих пор хранящие секреты «топорного» искусства. А местные
умельцы, которых собрали со всей округи числом пятнадцать, довершили дело –
нарядили эти крепкие, добротные постройки в знаменитую «глухую» резьбу. Сюжеты
брали с домов, которые по сей день живут и здравствуют в Городце. Все мастера
вместе взятые управились за год – не по-русски быстро, однако.
 Им
понедельник – в радость
От внешнего великолепия рубленых палат замирает
душа, а от запахов внутри кружится голова. Пахнет живой сосной, да так крепко,
будто бы ее только что срубили. И этот уральский концентрат, похоже, здесь
«прописался» навечно. Ведь в стилизованных под старину домах, соединенных между
собой переходами, все до последнего стула – дерево. Так что волей-неволей
посетители этого музейного комплекса, в придачу к экскурсии и мастер-классам,
получают допуслугу – фитотерапию.
Но вот уж кому действительно повезло, так это
здешним сотрудникам – никакой вредности на производстве, лечебные процедуры по
восемь часов в день. Да еще и возможность заниматься делом, к которому душа
тянется. Как же мало среди нас тех, кого мысль о понедельнике не вгоняет в
депрессию, кому каждое утро не приходится наступать на горло собственной песни!
Здесь же загляни в глаза любому мастеру – а там живой огонек. Давно я не видела
таких умиротворенных, светлых лиц за рабочим столом.
Экскурсовода нам в Городе мастеров отхватить не
удалось – они все были при деле, встречали гостей с теплохода, который причалил
прямо к «ногам» деревянных теремков. А может, и к лучшему, что под занавес
нашего путешествия мы, до краев наполненные впечатлениями, были предоставлены
сами себе, выбирали из несущегося на нас потока сокровищ только крупный
«жемчуг».
Им
понедельник – в радость
От внешнего великолепия рубленых палат замирает
душа, а от запахов внутри кружится голова. Пахнет живой сосной, да так крепко,
будто бы ее только что срубили. И этот уральский концентрат, похоже, здесь
«прописался» навечно. Ведь в стилизованных под старину домах, соединенных между
собой переходами, все до последнего стула – дерево. Так что волей-неволей
посетители этого музейного комплекса, в придачу к экскурсии и мастер-классам,
получают допуслугу – фитотерапию.
Но вот уж кому действительно повезло, так это
здешним сотрудникам – никакой вредности на производстве, лечебные процедуры по
восемь часов в день. Да еще и возможность заниматься делом, к которому душа
тянется. Как же мало среди нас тех, кого мысль о понедельнике не вгоняет в
депрессию, кому каждое утро не приходится наступать на горло собственной песни!
Здесь же загляни в глаза любому мастеру – а там живой огонек. Давно я не видела
таких умиротворенных, светлых лиц за рабочим столом.
Экскурсовода нам в Городе мастеров отхватить не
удалось – они все были при деле, встречали гостей с теплохода, который причалил
прямо к «ногам» деревянных теремков. А может, и к лучшему, что под занавес
нашего путешествия мы, до краев наполненные впечатлениями, были предоставлены
сами себе, выбирали из несущегося на нас потока сокровищ только крупный
«жемчуг».  В Городе мастеров я насчитала пять мастерских, по
совместительству выставочных залов. У каждой – свои хозяева. Правда, познакомиться
удалось не со всеми – время поджимало, до закрытия музея оставалось совсем
ничего. Художники, а назвать так можно любого из них, независимо от занятия,
очень приятные и разговорчивые собеседники. Ты им маленький вопрос – а они тебе
целую лекцию, да такую, что заслушаешься. А уж как засмотришься, глядя на их ловкие
руки! И в этом гипнозе не мудрено схватиться за кусочек глины, чтобы повторить,
казалось бы, простые и незатейливые движения мастерицы жбанниковской
свистульки. Да, собственно, садись и твори, здесь не потаятся – поделятся всеми
хитростями, которыми овладели за 700 лет жители одноименного села, соседа
Городца. Там, в Жбанниково, говорят, раньше в каждой семье умели мастерить
такие музыкальные игрушки. Но нет, мы торопимся. А вот в следующий раз уж точно
вылеплю такого барашка с золотыми рожками, без него не уйду. Он – рог изобилия,
да и просто красавец писаный. Впрочем, его не писали, а разукрашивали тычками –
макали сначала губку или тряпочку в яркую краску, а затем тыкали ей игрушку.
Потому-то этот ягненок в «горошек».
В Городе мастеров я насчитала пять мастерских, по
совместительству выставочных залов. У каждой – свои хозяева. Правда, познакомиться
удалось не со всеми – время поджимало, до закрытия музея оставалось совсем
ничего. Художники, а назвать так можно любого из них, независимо от занятия,
очень приятные и разговорчивые собеседники. Ты им маленький вопрос – а они тебе
целую лекцию, да такую, что заслушаешься. А уж как засмотришься, глядя на их ловкие
руки! И в этом гипнозе не мудрено схватиться за кусочек глины, чтобы повторить,
казалось бы, простые и незатейливые движения мастерицы жбанниковской
свистульки. Да, собственно, садись и твори, здесь не потаятся – поделятся всеми
хитростями, которыми овладели за 700 лет жители одноименного села, соседа
Городца. Там, в Жбанниково, говорят, раньше в каждой семье умели мастерить
такие музыкальные игрушки. Но нет, мы торопимся. А вот в следующий раз уж точно
вылеплю такого барашка с золотыми рожками, без него не уйду. Он – рог изобилия,
да и просто красавец писаный. Впрочем, его не писали, а разукрашивали тычками –
макали сначала губку или тряпочку в яркую краску, а затем тыкали ей игрушку.
Потому-то этот ягненок в «горошек».
 Лень –
двигатель искусства?
Точно такое же желание – сотворить собственными
руками чудо – возникает и в другой мастерской, где царицей себя чувствует городецкая
роспись. Она здесь повсюду – на подносах, панно, вазах, бочонках, ларцах,
сундуках. Краски – сочные, много желтого и красного, словно солнце в глаза
бьет. Сюжеты – многосложные, по некоторым можно целый рассказ сочинить. Про то,
например, как купеческая семья в полном составе, принарядившись по случаю
праздника, садиться в повозку, запряженную резвым жеребцом, чтобы отправиться в
церковь – она на заднем плане виднеется. А вот, кажется, пушкинские мотивы,
навеянные сказками классика. Господи, да за какие только сценки из жизни не
берутся городецкие художники! Народные гулянья, чаепития, катания на тройках.
Среди излюбленных сюжетов и сложные растительные орнаменты, в которых то петушок
«запутается», то жар-птица. Повторить такие многодетальные картины новичкам –
гостям мастерской, разумеется, не предлагают, а вот расписать цветочком
маленькую досочку для начинающих живописцев – в самый раз. Здешние мастера,
делегированные в Город мастеров прямо с фабрики «Городецкая роспись» (она
теперь, кстати, в частных руках), кого хочешь научат азам промысла, даже самых
неспособных. Потому как сами – таланты.
Лень –
двигатель искусства?
Точно такое же желание – сотворить собственными
руками чудо – возникает и в другой мастерской, где царицей себя чувствует городецкая
роспись. Она здесь повсюду – на подносах, панно, вазах, бочонках, ларцах,
сундуках. Краски – сочные, много желтого и красного, словно солнце в глаза
бьет. Сюжеты – многосложные, по некоторым можно целый рассказ сочинить. Про то,
например, как купеческая семья в полном составе, принарядившись по случаю
праздника, садиться в повозку, запряженную резвым жеребцом, чтобы отправиться в
церковь – она на заднем плане виднеется. А вот, кажется, пушкинские мотивы,
навеянные сказками классика. Господи, да за какие только сценки из жизни не
берутся городецкие художники! Народные гулянья, чаепития, катания на тройках.
Среди излюбленных сюжетов и сложные растительные орнаменты, в которых то петушок
«запутается», то жар-птица. Повторить такие многодетальные картины новичкам –
гостям мастерской, разумеется, не предлагают, а вот расписать цветочком
маленькую досочку для начинающих живописцев – в самый раз. Здешние мастера,
делегированные в Город мастеров прямо с фабрики «Городецкая роспись» (она
теперь, кстати, в частных руках), кого хочешь научат азам промысла, даже самых
неспособных. Потому как сами – таланты.  Самобытная, отличная и от хохломы, и от гжели, и
от прочих народных художеств роспись по дереву – наверное, самый молодой в
Городце промысел, народившийся в середине 19 века. И, думается мне, без русской
лени тут не обошлось. Истоки этого искусства возводят к «глухой» резьбе на
прялках, элементы которой для пущей рельефности обрабатывали морилкой. Но уж
слишком трудоемким был процесс украшательства, и в какой-то момент городецкие
умельцы отложили в сторону стамески и долото и взялись за кисти и краски. Может,
конечно, причиной замены была не лень, а стремление к разнообразию, настаивать
не буду. Но мне эта версия, возлежащая на знании особенностей русского
характера, кажется очень органичной.
Самобытная, отличная и от хохломы, и от гжели, и
от прочих народных художеств роспись по дереву – наверное, самый молодой в
Городце промысел, народившийся в середине 19 века. И, думается мне, без русской
лени тут не обошлось. Истоки этого искусства возводят к «глухой» резьбе на
прялках, элементы которой для пущей рельефности обрабатывали морилкой. Но уж
слишком трудоемким был процесс украшательства, и в какой-то момент городецкие
умельцы отложили в сторону стамески и долото и взялись за кисти и краски. Может,
конечно, причиной замены была не лень, а стремление к разнообразию, настаивать
не буду. Но мне эта версия, возлежащая на знании особенностей русского
характера, кажется очень органичной.
 Любушкин от
слова «любить»
Впрочем, она не объясняет, почему резьба по дереву
в Городце не умерла с рождением местной манеры художественного письма. Напротив,
живет и процветает. Хотя резчики нынче здесь, похоже, все-таки на вес золота. И
с одним из них мы познакомились в мастерской музейного городка. Прошу любить и
жаловать – Алексей Федорович… оцените фамилию – Любушкин. От него действительно
веет любовью – ко всем этим корягам и корешкам, которые своими замысловатыми
изгибами сами подсказывают мастеру очертания будущей статуэтки. К лесу, по
самым потаенным уголкам которого он так любит бродить. К жизни, что
помотала-покидала его, провела через суровый Сургут, безжалостный БАМ и,
наконец, закинула в небольшой провинциальный городок на Волге . К людям,
которым он своими работами дарит радость.
Думаете, он потомственный городецкий резчик,
получивший в наследство от дедов талант и секреты ремесла? Ничего подобного.
Алексей Федорович городчанином стал не так-то и давно – всего каких-то десять
лет назад. Мастеров деревянных дел в роду не имел – предки были кожевниками, а
сам всю жизнь, по его словам, с металлом возился – газорезчиком,
электросварщиком, слесарем-монтажником работал. А вот вышел на пенсию – и
накрыло. Поначалу собственный сын над отцом подтрунивал: эка тебя на старости
лет разобрало. А через какое-то время и сам к дереву и резьбе пристрастился, мастер
уверяет, что его переплюнул. Хотя, думаю, это он по-отцовски преувеличивает –
по мне, так его работам нет равных. Ведь в них не только уверенный штрих
настоящего художника виден – его душа просвечивает. Она у Любушкина тонкая,
поэтичная, светлая. Иначе не разглядел бы он в обычном корневище смертельную
схватку Мцыри с барсом – одна из первых работ Алексея Федоровича, своей
пластикой и экспрессией напоминающая скульптуры Родена.
Любушкин от
слова «любить»
Впрочем, она не объясняет, почему резьба по дереву
в Городце не умерла с рождением местной манеры художественного письма. Напротив,
живет и процветает. Хотя резчики нынче здесь, похоже, все-таки на вес золота. И
с одним из них мы познакомились в мастерской музейного городка. Прошу любить и
жаловать – Алексей Федорович… оцените фамилию – Любушкин. От него действительно
веет любовью – ко всем этим корягам и корешкам, которые своими замысловатыми
изгибами сами подсказывают мастеру очертания будущей статуэтки. К лесу, по
самым потаенным уголкам которого он так любит бродить. К жизни, что
помотала-покидала его, провела через суровый Сургут, безжалостный БАМ и,
наконец, закинула в небольшой провинциальный городок на Волге . К людям,
которым он своими работами дарит радость.
Думаете, он потомственный городецкий резчик,
получивший в наследство от дедов талант и секреты ремесла? Ничего подобного.
Алексей Федорович городчанином стал не так-то и давно – всего каких-то десять
лет назад. Мастеров деревянных дел в роду не имел – предки были кожевниками, а
сам всю жизнь, по его словам, с металлом возился – газорезчиком,
электросварщиком, слесарем-монтажником работал. А вот вышел на пенсию – и
накрыло. Поначалу собственный сын над отцом подтрунивал: эка тебя на старости
лет разобрало. А через какое-то время и сам к дереву и резьбе пристрастился, мастер
уверяет, что его переплюнул. Хотя, думаю, это он по-отцовски преувеличивает –
по мне, так его работам нет равных. Ведь в них не только уверенный штрих
настоящего художника виден – его душа просвечивает. Она у Любушкина тонкая,
поэтичная, светлая. Иначе не разглядел бы он в обычном корневище смертельную
схватку Мцыри с барсом – одна из первых работ Алексея Федоровича, своей
пластикой и экспрессией напоминающая скульптуры Родена.  Впрочем, Любушкин нисколько не склонен к тщеславию
– все на природу списывает, ей, питающей его фантазию, все лавры отдает. А свои
работы называет не иначе как чудачества. Чудаковатость, сдобренная юморком, в
некоторых скульптурах действительно проскальзывает. «Где был, слюнявый?» –
зарисовка из жизни пернатых, но с типичным для хомо сапиенса сюжетом: виновато
опустивший голову муж и строго посматривающая в его сторону жена. А вот большой
деревянный глобус, на оси которого водрузился всесильный медведь, крутит-вертит
планетой – скульптура, к слову сказать, была вырезана до второго путинского
пришествия и явно не без намека. Резной самовар на настоящих, в чем-то
вымоченных курьих ножках – еще одна шутка мастера.
Удивительный человек. И вроде коротко пообщались,
а в душу запал – не забыть. Вспоминаю – и как-то тепло становится от мысли, что
где-то там, в Городце, живет Алексей Федорович.
Впрочем, Любушкин нисколько не склонен к тщеславию
– все на природу списывает, ей, питающей его фантазию, все лавры отдает. А свои
работы называет не иначе как чудачества. Чудаковатость, сдобренная юморком, в
некоторых скульптурах действительно проскальзывает. «Где был, слюнявый?» –
зарисовка из жизни пернатых, но с типичным для хомо сапиенса сюжетом: виновато
опустивший голову муж и строго посматривающая в его сторону жена. А вот большой
деревянный глобус, на оси которого водрузился всесильный медведь, крутит-вертит
планетой – скульптура, к слову сказать, была вырезана до второго путинского
пришествия и явно не без намека. Резной самовар на настоящих, в чем-то
вымоченных курьих ножках – еще одна шутка мастера.
Удивительный человек. И вроде коротко пообщались,
а в душу запал – не забыть. Вспоминаю – и как-то тепло становится от мысли, что
где-то там, в Городце, живет Алексей Федорович.
 До нового
свидания!
Погостили в Городце – пора и честь знать. Хотя мы,
наверное, и десятой доли не увидели того, что могли бы увидеть в этом самом старом
городе Нижегородчины. За кадром, к примеру, остался древний вал, что был
возведен вокруг городецкой крепости еще в 12 веке и возвышался аж на 15 метров,
а нынче и половину того не имеет, но все-таки хранит в себе обломки прежних
веков – именно там до сих пор находят самые архаичные вещицы. Этим живым
свидетелем зарождения Городца я грезила еще за неделю до поездки, все уши
прожужжала коллегам про него, но как раз на вал и не хватило ни сил, ни
времени. Да, по правде говоря, многим пришлось пожертвовать из-за того, что
день – не резиновый, а способность переживать восторг – не беспредельна. Мы
ведь и так покидали Городец на грани эмоционального истощения и умственного
«переедания» – напитались историями и впечатлениями так, что, казалось, еще
чуть-чуть и лопнем. Стоит ли удивляться, что путешествие в один день вылилось у
меня в столь длинный рассказ, растянувшийся на месяц. Коллеги даже начали
подшучивать: «Не приставайте к ней с дзержинскими новостями, она ведь в Городце
теперь живет». А я, признаюсь, очень рада, что весь сентябрь «прожила» в этом
уютном, спокойном городке.
Приблизилась ли к его разгадке? Наверное, для
этого в Городце надо побывать не раз и не два, а, может, даже задержаться здесь
на недельку-другую. Ну, а пока я, кажется, только и поняла, что городецкие
молоко, сметана и творог не случайно самые вкусные. В городе с таким бережным
отношением к своим корням иначе и быть не может.
До нового
свидания!
Погостили в Городце – пора и честь знать. Хотя мы,
наверное, и десятой доли не увидели того, что могли бы увидеть в этом самом старом
городе Нижегородчины. За кадром, к примеру, остался древний вал, что был
возведен вокруг городецкой крепости еще в 12 веке и возвышался аж на 15 метров,
а нынче и половину того не имеет, но все-таки хранит в себе обломки прежних
веков – именно там до сих пор находят самые архаичные вещицы. Этим живым
свидетелем зарождения Городца я грезила еще за неделю до поездки, все уши
прожужжала коллегам про него, но как раз на вал и не хватило ни сил, ни
времени. Да, по правде говоря, многим пришлось пожертвовать из-за того, что
день – не резиновый, а способность переживать восторг – не беспредельна. Мы
ведь и так покидали Городец на грани эмоционального истощения и умственного
«переедания» – напитались историями и впечатлениями так, что, казалось, еще
чуть-чуть и лопнем. Стоит ли удивляться, что путешествие в один день вылилось у
меня в столь длинный рассказ, растянувшийся на месяц. Коллеги даже начали
подшучивать: «Не приставайте к ней с дзержинскими новостями, она ведь в Городце
теперь живет». А я, признаюсь, очень рада, что весь сентябрь «прожила» в этом
уютном, спокойном городке.
Приблизилась ли к его разгадке? Наверное, для
этого в Городце надо побывать не раз и не два, а, может, даже задержаться здесь
на недельку-другую. Ну, а пока я, кажется, только и поняла, что городецкие
молоко, сметана и творог не случайно самые вкусные. В городе с таким бережным
отношением к своим корням иначе и быть не может.
Елена Серова